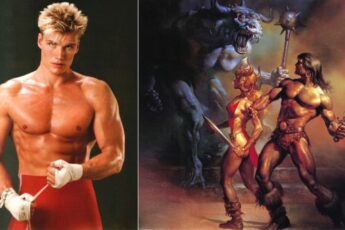Бывают судьбы, в которых слишком много резких поворотов. Екатерина Деревщикова родилась в 1929-м, в интеллигентной московской семье, и казалось — у неё всё будет как в правильных книгах: отец-дипломат, востоковед, семья с перспективой. Но в стране уже закручивалась мясорубка.

В 1934 году её отец оказался «врагом народа». Десять лет лагерей — приговор, который редко кто переживал. Для семьи это был удар, от которого трудно оправиться. Мать держалась изо всех сил: при дочери не плакала, хотя сердце рвалось. Последнее свидание с мужем она провела вместе с маленькой Катей. А через какое-то время узнала: мужа больше нет, лагерь его сломал.
Чтобы спасти дочь от клейма, мать почти сразу вышла замуж повторно и поменяла фамилию. Всё ради того, чтобы стереть опасные строчки из биографии. Даже справки достала — мол, работала в Кремлёвском секретариате, дружила с женой Дзержинского.
Это помогло выжить, но не избавило девочку от страха. Кате запрещали гулять с подружками, приводить друзей домой, а вступление в пионеры для неё было табу. В школу она приносила красный галстук только на праздники и сразу же снимала, чтобы не выделяться. Её детство — это вечная двойная жизнь: улыбка на людях и тревога в доме.

А потом — резкий контраст. В 9 лет Катя впервые снялась в кино. Через три года её Женька Александрова в фильме «Тимур и его команда» прогремела на весь Союз. Смешная, заводная, пионерка-задоринка, которую Гайдар писал будто именно с неё.
Картина вышла на экраны в 1940-м, и в считанные недели девочка превратилась в настоящую звезду. Письма, толпы поклонников во дворе, милиционеры, провожавшие её до дома. Двенадцатилетняя школьница, которая ещё недавно прятала своё прошлое, вдруг стала кумиром всей страны.
Это и есть та ирония судьбы: дочь «врага народа» становилась любимицей миллионов.
Слава пришла к Деревщиковой рано, но взросление оказалось куда сложнее. В школе она училась кое-как, дисциплина хромала. Когда её одноклассники торжественно вступали в комсомол, Екатерину даже не позвали.
В тот день она нарочно отрезала юбку покороче, густо накрасила ресницы и вышла в класс как вызов. Директор сказал прямо: «Выбирай. Или школа, или вот это всё». Катя выбрала «это всё» — и ушла, не получив аттестата.
С этого момента её жизнь стала похожа на затянувшийся дембельский праздник. Гулянки, ночёвки в парках, демонстративное «мне всё равно». Казалось, актриса, которую знала вся страна, превращалась в подростка без будущего.
И, возможно, осталась бы на обочине, если бы не случайная встреча. На улице её заметил худрук Студии киноактёра. Он возмутился: как же так, «гайдаровская Женька» слоняется без дела? Вручил записку к Тамаре Макаровой — «пусть посмотрит».

Катя не бросилась сломя голову. Про записку она вспомнила лишь через несколько месяцев и только тогда пришла во ВГИК. Тамару Фёдоровну это позабавило: «Почему не к Новому году пожаловала?» Но на курс взяла. Правда, с испытательным сроком.
И какой это был курс! Одни будущие легенды: Инна Макарова, Клара Лучко, Сергей Бондарчук, Евгений Моргунов. На их фоне Екатерина выделялась своей дерзостью и внутренней независимостью. Аттестата у неё не было, но Макарова закрыла глаза. «Добудет» — и ладно.
Второй курс — и сразу предложение сыграть в «Каменном цветке». Роль невесты главного героя, за которую боролась сама Людмила Целиковская. Но писатель Павел Бажов, едва увидев Деревщикову, сказал: «Эта девочка — то, что надо!» И спорить с автором никто не решился.
Казалось, сказка продолжается. Но внутри этой сказки зрела драма. Хозяйку Медной горы должна была играть её педагог Тамара Макарова. И вдруг между ними разгорелось холодное противостояние. Одни говорили — ревность.
Якобы Макарова не могла простить своей студентке внимания Сергея Герасимова. Другие — что всё дело в юношеской самоуверенности Кати. Как бы там ни было, но педагог начала её игнорировать, а затем приложила все усилия, чтобы фамилии Деревщиковой не оказалось среди номинантов на Сталинскую премию за фильм.

Для Екатерины это был удар. Вчера — любимая ученица, завтра — чужая. А вскоре её и вовсе отчислили из ВГИКа за прогулы и «запретные» съёмки.
Казалось, дверь в кино захлопнулась. Но Михаил Ромм пожалел девушку и взял её на свой курс. Там она уже держалась осторожнее. С Макаровой больше ничего не связывало.
После «Каменного цветка» сценарии сыпались на Деревщикову пачками. Но она не бросалась на всё подряд. В ней жила какая-то упрямая избирательность: «просто ради денег — не пойду». На роль в «Центре нападения» её уговаривал сам Марк Бернес. Катя поехала в Киев, где режиссировал Игорь Земгано. Ему она сразу приглянулась, и не только как актриса. Съёмки обернулись романом, а роман — браком.
Он был старше на 27 лет, ему за пятьдесят, ей — двадцать три. Звучит как скандал, но в СССР тогда такие союзы воспринимались проще: он — уважаемый режиссёр, она — восходящая звезда. Вскоре Екатерина осталась жить в Киеве. Земгано стал директором Театра оперетты, а Катя получила всё: просторную квартиру, дачу, машину с шофёром, няню для сына Фёдора и возможность не задумываться о деньгах.
Жизнь, о которой мечтали тысячи: театры, рестораны, беззаботность. Но в этой картине не хватало главного — творчества. В театр имени Леси Украинки она ходила в основном за зарплатой. На предложения местных режиссёров отказывалась: роли казались «хуже предыдущих». В ней жила странная гордость — лучше никак, чем «абы как».
А Земгано тем временем начал пить. Деньги, власть, лёгкая жизнь — всё это стало для него ловушкой. Екатерина терпела десять лет, но в конце концов подала на развод. Взяла сына и уехала в Москву.

Но возвращение оказалось холодным душем. В столице 35-летнюю актрису никто не ждал. Мама помогла с пропиской, но театры двери не открывали. В Пушкинский театр — отказ, в Сатиру — тоже.
Она оказалась в компании таких же «лишних» актёров, как Олег Борисов, которые играли где попало: в домах престарелых, больницах, библиотеках. Платили гроши, но это было хоть что-то.
Счастливый поворот случился только в середине 60-х, когда Сергей Образцов позвал её в Театр кукол. Тогда это выглядело почти унизительно — звезда «Тимура» и «Каменного цветка» уходит в кукольники? Но именно там она обрела своё настоящее место. Театр Образцова гастролировал по всему миру, и за 40 лет Екатерина исколесила полпланеты. Зрители принимали её восторженно, коллеги — с уважением.
Её первая слава ушла, но началась новая жизнь — не менее яркая.
В начале 70-х Екатерина Деревщикова встретила мужчину, который стал её последней большой любовью. Поляк Пётр Щчесьневский был младше на двенадцать лет, но возраст вдруг перестал иметь значение.
Он оказался рядом тогда, когда актриса уже многое пережила: раннюю славу, предательство, развод, скитания по чужим сценам. Для неё это было как второе дыхание — тихая поддержка, надёжность, простое человеческое тепло.
Но личное счастье не спасло от самой страшной боли — потери ребёнка. Её единственный сын Фёдор, выросший в атмосфере беззаботного достатка и частого материнского отсутствия, не справился со взрослой жизнью. Зависимость, пустота, болезни.
В 35 лет он умер от гепатита. Для Екатерины это был удар, который выбил почву из-под ног. Она, «железная леди» театра, властная, ухоженная, уверенная в себе, плакала в одиночестве, держась за мундштук, будто он мог спасти от реальности.
Потом пришла ещё одна потеря — смерть мужа. В начале 80-х у Петра случилась остановка сердца. И снова она осталась одна.

Внешне Деревщикова оставалась примой. Всегда в моде, всегда в форме, с идеальным маникюром и репликами, которые раздавались как пощёчины. Её боялись и уважали. Но за этим образом стояла женщина, которая проживала боль.
Театр Образцова стал для неё настоящим домом. С ним она проехала почти весь мир, подарила тысячи спектаклей. Её обожали коллеги, ценили зрители. Она держалась до конца — гордая, яркая, самостоятельная.
В 2006 году Екатерины Деревщиковой не стало. Ей было 77 лет. Она ушла, оставив после себя странное чувство: актриса, которая в детстве была символом «тимуровского движения», прожила жизнь, где было место и роскоши, и унижению, и любви, и одиночеству. В ней удивительным образом соединились все контрасты XX века.
И, может быть, именно поэтому её судьба до сих пор кажется острой, как фильм без хэппи-энда. Она не дожила до всеобщего признания, не получила громких званий, но осталась символом времени, когда слава могла обернуться тенью, а актриса — стать сильнее своей роли.