Странное дело: иногда страны запоминают не тех, кто руководил парадами, а тех, кто мог одним жестом разрушить мрачность строя. На фоне эпохи, где смех числился почти служебной привилегией, появление человека вроде Бориса Сичкина выглядело чем-то из категории бытового чуда.
Не героя, не пророка, не «лидера мнений», а обычного артиста, который будто приносил лёгкость прямо в ладони, без разрешений и протоколов. Таких людей не выдумывают — ими становятся независимо от декораций эпохи.

В нём было что-то странно пружинистое, почти физическое: любое давление возвращалось обратно к отправителю. Его называли куплетистом, одесситом по ощущениям, Бубой Касторским по экрану — но за всеми этими яркими вывесками прятался человек куда глубже и запутаннее, чем его фирменное: «Я — одессит, я из Одессы! Здрасьте!».
Интонация — как вспышка. Манера говорить — будто за соседним столиком на Привозе. И публика, конечно, верила. Верила охотно, с удовольствием, так, словно город у моря сам выписал ему мандат на представительство.
Но родился он не у моря. Родился в Киеве, в тесной квартире сапожника, где каждая пара ботинок была надёжнее любой финансовой подушки. Семья большая, денег мало, характеров — с избытком. Старший брат ушёл в танец, и маленький Боря последовал туда же: чечётка была гарантированным способом вернуться домой с ужином.
На базаре его первыми зрителями были уголовники — публика жёсткая, но честная. Если смеялись, значит, парень действительно умел.
От бедности он убегал целенаправленно, словно заранее знал: она ещё не раз попытается вернуть его обратно. Его выгнали из школы за поведение, и десятилетний мальчишка ушёл из дома. Не в романтический побег, а в обязательный урок самостоятельности.
Жил среди цыган, перенял их пластику, уверенность, умение разговаривать с залом без слов — и, наверное, именно тогда в нём появился тот внутренний импровизационный мотор, который будет работать всю жизнь.

К пятнадцати поступил в хореографическое училище. Дальше — гастроли, сцены, поездки, та самая кочевая юность, где поезд заменяет дом. Театрального образования он так и не получил: вместо школы — рынок, пыльная дорога, циничный зритель и фронтовой плацдарм. Иногда кажется, что из такого набора обстоятельств чаще выходят суровые мужчины с потухшими глазами, но Сичкин умудрился вынести оттуда одно — ритм. И способность держать его в любой ситуации.
Фронт вошёл в его биографию так же неровно, как чечётка в детстве. Он ездил с концертной бригадой, поднимал бойцам настроение, но однажды не выдержал: стоять в стороне, когда вокруг свистит металл, казалось ему почти обидным. Сбежал в боевую часть, попросился пулемётчиком. Свою дерзость объяснил просто: «Хочу сам бить немцев». В других обстоятельствах такие слова стоили бы свободы, но генерал поверил. Отправили обратно в ансамбль — делать то, что он умел лучше всех: возвращать людям ощущение, что жизнь продолжается даже под разрывами.
Он уверял, что в День Победы отплясывал чечётку у Рейхстага. И легко представлялась эта картина: руины, серый дым, и среди всего этого — человек, который пытается перетанцевать войну хотя бы на несколько минут. В нём не было патетики. Было простое желание жить.
После войны он словно шёл по траектории, заранее для него нарисованной: ансамбли, эпизоды в кино, гастрольные бригады. Казалось, что именно так и должен существовать артист, у которого вместо визитки — быстрая походка и улыбка, снимающая напряжение в любом пространстве. Кинематограф увидел в нём не ремесленника, а живой нерв, человека, способного одним движением превратить сцену в разговорную лавку.
Настоящий поворот случился, когда Эдмонд Кеосаян решил снимать «Неуловимых мстителей» и отдал Сичкину роль Бубы Касторского. Комический персонаж — да, но с включённым на максимум обаянием. Он не играл Бубу — он его выпускал наружу. Получилось настолько точно, что зрители быстро забыли о предшественнике 1930-х. Их Буба был именно таким: хитрый, мягкий, разговорчивый, с той самой «одесской» улыбкой, которой и в Одессе-то мало кто владел.

Его песня стала мгновенным народным сигналом. Стоило услышать первые строки — и зал уже жил своей отдельной жизнью. Сичкин умел разорвать смех на вспышки, как фейерверк, где каждая искра — очередная реплика. Он будто приносил с собой жареные бычки, шум двора, ощущение свободы, которое в советской реальности было почти экзотикой.
И именно поэтому смерть Бубы в продолжении «Неуловимых мстителей» зрители восприняли как личное оскорбление. Редко бывает, чтобы персонажа хоронили с таким эмоциональным накалом. Но казалось, что хоронят не киногероя, а возможность смеяться легко — и через любимое лицо.
Тем временем у самого Сичкина началась другая жизнь — та, в которой нет ни песни, ни света софитов. Чем ярче жил Буба на экране, тем плотнее сгущались тени вокруг артиста. Он зарабатывал много: залы, концерты, гастроли. Деньги — почти единственный его роскошный период — быстро превратились в повод для подозрений. Кто-то решил, что зарабатывает он «слишком много». А в советской логике это уже не финансовый вопрос, а политический.
Обвинений хватило бы на плохой роман: квартира, машина, мебель, дача — вся бытовая жизнь превратилась в улику. Его посадили в камеру с уголовниками, вырезали фамилию из титров, перекрыли сыну путь в консерваторию. И чем больше давления, тем упрямее он внутренне вставал на ноги. Выдержал больше года. Дело развалилось, но последствия остались — как побочный эффект побитой биографии.
Вернувшись, он оказался в пустоте. Советское кино не любит возвращенцев после скандалов. Его словно поставили в режим «невидимки». Одна главная роль — «Повар и певица» — и даже там заменили голос. Это был очень точный сигнал: «Ты нам не нужен». И он его понял.
Когда дело неожиданно отправили на доследование, стало ясно: эта тень не рассеивается. Каждый шаг напоминал о том, что в любой момент кто-то может дёрнуть за старую верёвочку, и жизнь снова перевернётся. Тогда он сделал то, на что решаются немногие артисты той школы: подал документы на выезд. Не в поисках славы, а в расчёте сохранить безопасность семьи и хотя бы часть человеческого достоинства.
Уезжал почти налегке: сорок долларов в кармане, отсутствие английского и огромное сомнение — нужен ли он кому-то за океаном. В Нью-Йорке его имя ничего не значило. Там не знали, кто такой Буба Касторский, и почему в СССР люди смеялись от одной его интонации. Эмиграция не похлопывает по плечу — она вежливо отступает в сторону и даёт пройти в пустоту. Он прошёл.
Жил в дешёвых квартирах, выступал перед эмигрантами: маленькие сцены, культурные центры, кафе, где аплодисменты звучат более интимно, чем громко. Он говорил о себе с усмешкой: живёт не «за чертой бедности», а прямо на ней. Но в его словах не было жалобы — лишь точность. Америка стала страной, куда он приехал не за шансом, а за возможностью быть не объектом административных разборок.
И всё-таки судьба иногда отдаёт долги. В 1995 году Оливер Стоун позвал его сыграть Брежнева в «Никсоне». Абсурд? Да. Небольшая роль? Тоже. Но в этом эпизоде было что-то символичное: человек, от которого советская система пыталась избавиться, становится экранным воплощением одного из её столпов — и уже в американском кино. Позже он снялся в «Бедной Саше» у Тиграна Кеосаяна — в амплуа бездомного интеллигента, которое странным образом подходило ему куда больше, чем могло показаться.

Он играл мало, но узнаваемость не исчезала. Высокая бровь, чуть хулиганская улыбка, фирменная подача реплик. В эмиграции она стала мягче, как будто потеряла остроту, но сохранила то главное — способность превращать любое помещение в маленькую сцену. Даже лестничная клетка могла стать его подмостками, если рядом оказывались зрители.
Личная жизнь шла параллельным, устойчивым маршрутом. Галина — жена, партнёр, человек, который держал дом, как держат крепость. Она носила передачи в тюрьму, она же убедила мужа, что выезд — единственный шанс сохранить семью. Решение приняли быстро, почти на бегу. И, кажется, именно её стойкость позволила им пройти через бесконечные перелёты, очереди, ожидания, без истерик и сожалений.
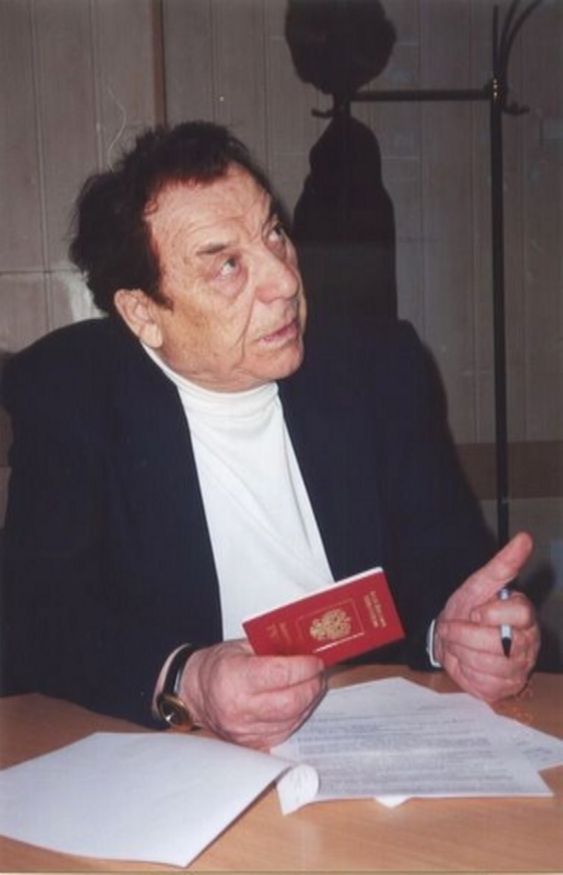
Сын, Емельян, выбрал музыку. Композитор с тонким слухом, человек, которому предстояло доказывать свою талантливость в двух мирах: в СССР, где фамилия могла быть клеймом, и в Америке, где клеймом могла стать эмиграция. Женился поздно, почти в пятьдесят, и назвал сына Борисом — будто кинул мостик через всю эту сложную семейную эпопею. Дед этого уже не увидел.
Последние годы жизни Сичкин провёл в социальном доме. Скромно, почти аскетично. Но не униженно. Был в нём какой-то твёрдый внутренний стержень, который не позволял считать себя несчастным. Судьба, словно размышляя, решила подбросить финальный подарок — роль «крёстного отца русской мафии» в голливудском проекте. Он ходил по этажу, делился новостью с соседями, улыбался — впервые за долгое время никакой горечи, только чистая радость. Завтра собирался учить текст.
Но лифт сломался. Подъём на шестой этаж стал испытанием. Где-то между пролётами сердце не выдержало. Инфаркт оборвал то, что могло стать новым началом. Похоронили его в Нью-Йорке, а спустя шесть лет прах перенесли на Ваганьковское кладбище — после странственного путешествия по чужим квартирам и мастерским. История, достойная его же куплетов: грустная, абсурдная, человеческая.
Когда его урну наконец опустили в землю на Ваганьковском кладбище, возникло странное ощущение: будто человек, всю жизнь существовавший между двумя мирами, наконец нашёл точку покоя. Без громких слов, без официальных речей, без режиссуры. Просто имя, которое много лет звучало легче, чем жилось.
В судьбе Сичкина было слишком много контрастов: смех на экране и тишина в камере, народная любовь и равнодушие индустрии, советский успех и эмигрантская бедность. Он шёл через биографию так, словно отбивал чечётку по любой поверхности — будь то рынок, фронтовая сцена или лестница в нью-йоркском доме. Ритм не менялся: быстрый, упрямый, почти физический. Иногда грубый, иногда хулиганский, но всегда честный.

Он не был героем эпохи — и тем более не был её символом. Всё куда проще: Сичкин был артистом, который умел превращать чужую реальность в пространство, где можно улыбнуться. Даже если потом за эту улыбку приходилось платить слишком дорого.
Его жизни не хватало пафоса, зато было в избытке стойкости. Такой стойкости, которая не требует подтверждений. Его пытались записать в лишние люди, вырезать из титров, заставить исчезнуть — но он снова и снова возвращался на сцену, пусть даже в другом полушарии и перед другой аудиторией.
Америке он не покорился, но и не прогнулся. Жил скромно, играл редко, но сохранил ту удивительную способность удерживать внимание одним жестом. Вспоминал, рассказывал, выступал — так, будто каждый вечер был генеральной репетицией чего-то большего. И, наверное, в этом и заключалась его свобода: не зависеть от масштаба сцены, а лишь от собственной внутренней музыки.
Борис Сичкин не оставил после себя школ, методик или громких цитат. Но оставил то, что стоит дороже: ощущение, что смех может быть маленьким актом сопротивления. И что человек без должностей, без титулов, без мощных покровителей способен прожить жизнь, не предав свой собственный ритм. Он так и шёл — по краю, по границе, по линии бедности и славы, будто по тонкой доске, на которой удерживаются только те, кто не боится сорваться.
И всё же в этой биографии есть один устойчивый мотив: он шутил, потому что иначе не умел жить. Это не поза и не программа — скорее нервная система, встроенная в характер. Та самая, что помогла выстоять в тюрьме, эмиграции, нигде не принадлежа полностью, но везде оставаясь собой.
Вот странный вопрос, который неизбежно всплывает после его истории:
А как вы считаете: если бы судьба не вынудила его уехать, стал бы Борис Сичкин совсем другим артистом — или таким он рождался изначально?






