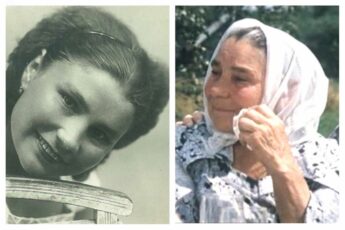Даже в самую тёмную ночь может загореться яркая звезда — звучит почти как сказка, но именно так иногда и случается. Одна из таких звёзд вспыхнула прямо на съёмочной площадке. Снятый по мотивам одноименной пьесы румынского писателя Михаила Себастьяна, этот фильм стал режиссерским дебютом Михаила Козакова.

«Безымянная звезда» — история о мимолётной встрече провинциального учителя астрономии Марина Мирою и эффектной столичной красавицы Моны — история мечты, вспыхнувшей, как комета, и неизбежного возвращения на Землю.
Вдохновившись постановкой «Безымянной звезды», которую Михаил Козаков увидел в 1956 году в БДТ под руководством Георгия Товстоногова, он решил: снимет собственный телеспектакль. За адаптацию взялся драматург Александр Хмелик. Он переработал оригинал — сократил сцены, добавил драматических акцентов, ввёл новых персонажей, таких как Судья и Жена начальника станции.

Но когда проект был готов к запуску, председателем Гостелерадио стал Сергей Лапин — человек сурового нрава и с прямолинейным подходом. Ему не понравилась сцена, где весь провинциальный город собирается посмотреть на прибывший поезд. В этом он усмотрел аллюзию на железный занавес и жажду советских людей к запретному — к «той» жизни. Показать такое на экране он посчитал недопустимым.
Но Михаил Козаков не отступил. В течение восьми лет он настойчиво отправлял заявки на Гостелерадио — и снова и снова получал отказы. Всё изменилось, когда судьба свела его с Геннадием Бокарёвым, главным редактором Свердловской киностудии. Бокарёв был восхищён сценарием и предложил: вместо телеспектакля снять полноценный фильм — силами его студии.

Козаков с самого начала видел в роли Марина Мирою Олега Даля. Но пока дорабатывался сценарий и продолжались переговоры с Гостелерадио, их взгляды на проект начали расходиться.
Даль предлагал мрачную, почти экспрессионистскую трактовку в духе Кафки — по его версии, герой должен был покончить с собой, бросившись под поезд после расставания с Моной. Козаков же представлял себе тонкую, лиричную драму в духе Чехова, где важны полутона, а не трагедии в лоб.
В итоге Олег Даль отказался от участия и покинул проект.

После ухода Олега Даля на его место хотели пригласить Сергея Юрского. Однако эта идея не получила одобрения у руководства — тогда Юрский находился в негласной опале за достаточно смелые высказывания и симпатию к творчеству Иосифа Бродского.
В результате выбор пал на Игоря Костолевского. Это решение удивило многих: актёр был хорошо известен своими ролями романтических героев, элегантных и обаятельных — никак не скромным провинциальным учителем. Но режиссёр сумел разглядеть в нём глубину и мягкую силу, необходимые для образа Марина Мирою.
На роль Моны претендовали многие звёзды, включая Марину Неёлову. Однако она отказалась. «Я не понимаю, как такая женщина, как Мона, могла бы влюбиться в простого астронома», — честно призналась актриса. Анастасия Вертинская таких вопросов не задавала.
Она сразу почувствовала с героиней внутреннюю связь и без колебаний приняла роль. Позже в интервью Анастасия Вертинская призналась: из всех работ Михаила Казакова именно «Безымянная звезда» была для неё самой близкой и любимой.

В оригинальной пьесе намёк на чувства мадемуазель Куку к Миру было едва уловимым, а в сценической версии Товстоногова персонаж и вовсе получился комичным — роль тогда исполнил Евгений Лебедев.
Казаков же пошёл иным путём — он захотел раскрыть внутреннюю драму героини, довести её безответную любовь до подлинной трагедии. Для этого требовалась особенная актриса — та, что сумела бы передать хрупкость, страдание, тонкую душевную борьбу одинокой женщины, чья любовь осталась невысказанной. Этой актрисой стала Светлана Крючкова.

Благодаря её игре зритель увидел не усталую старую деву и моралистку, а хрупкую, ранимую женщину, прячущуюся за внешней строгостью. К финалу фильма её героиня словно просыпается, начинает смотреть на свою рутину иначе — с горечью, но и с новым осознанием себя.
Образ мадемуазель Куку был создан в тесном сотрудничестве с оператором Георгием Рербергом: именно он подбирал для Крючковой гардероб, продумывал детали, включая причёску, чтобы максимально точно выразить внутренний мир героини.

Изначально на роль Грига — влюблённого в Мону поклонника — Михаил Козаков утвердил Леонида Филатова. Но против этого выбора резко выступил оператор Георгий Рерберг. Он настаивал, что у Филатова «трудное» лицо: мол, с таким ракурсы придётся искать вечно, да и внешне румына он не напоминает. Под давлением Рерберга режиссёр вынужден был искать замену.
Следующим кандидатом стал Родион Нахапетов. Он даже успел сняться в нескольких сценах, но неожиданно покинул проект. Объяснил это тем, что чувствует несоответствие с образом: «Это не мой герой, у меня другая природа», — сказал он Козакову. И предложил смелую альтернативу: пусть сам Козаков сыграет Грига.

Режиссёр всерьёз задумался и в итоге поставил Рербергу ультиматум: «Либо Филатов возвращается, либо я сам в кадре». Рерберг, нехотя, выбрал второе, но впоследствии потребовал убрать своё имя из титров. Так Козаков не только снял, но и исполнил одну из ключевых ролей в фильме.
Однако и тут творческие взгляды столкнулись. В сцене объяснения Грига и Моны Козаков играл с полной отдачей — страстно, с яркой экспрессией. А Рерберг просил сбавить накал и показать более сдержанного, ироничного, уверенного в себе героя.
«Мне вообще Шурика Ширвиндта предлагали сыграть!» — вспоминал позже Козаков с улыбкой. В итоге он уступил. Второй дубль сняли в другой тональности — лёгкий, полуироничный, с налётом обаятельной самоуверенности. Именно таким зрители и запомнили Грига.

Михаил Козаков, как и его герой, влюбился в Мону — в Анастасию Вертинскую. Они уже работали вместе на съёмочной площадке «Человека-амфибии», но тогда между ними ничего не было. А вот во время работы над «Безымянной звездой» всё изменилось.
«На съёмках было ясно: они любят друг друга», — вспоминал актёр Михаил Светин. «Конечно, Миша с Настей старались держаться сдержанно, но атмосфера говорила сама за себя. Всё было видно, всё читалось в их взглядах».

Козаков, как и его герой, любил Вертинскую страстно, мучительно и ревниво. Их роман был коротким, но ярким. Козаков на тот момент состоял в третьем браке, а Вертинская не стремилась к новым серьёзным отношениям — она только что пришла во МХАТ и целиком ушла в работу. К окончанию съёмок их пути разошлись, но пережитые чувства остались — и отразились в кадре.
Именно эта настоящая, невымышленная страсть придала их дуэту подлинность, сделала фильм эмоционально насыщенным и пронзительно достоверным. Говорят, что после просмотра картины режиссёр Анатолий Эфрос, в чьих спектаклях играл Козаков, не сдержался и воскликнул:
«Почему же Козаков сыграл в собственном фильме лучше, чем у меня в театре?».
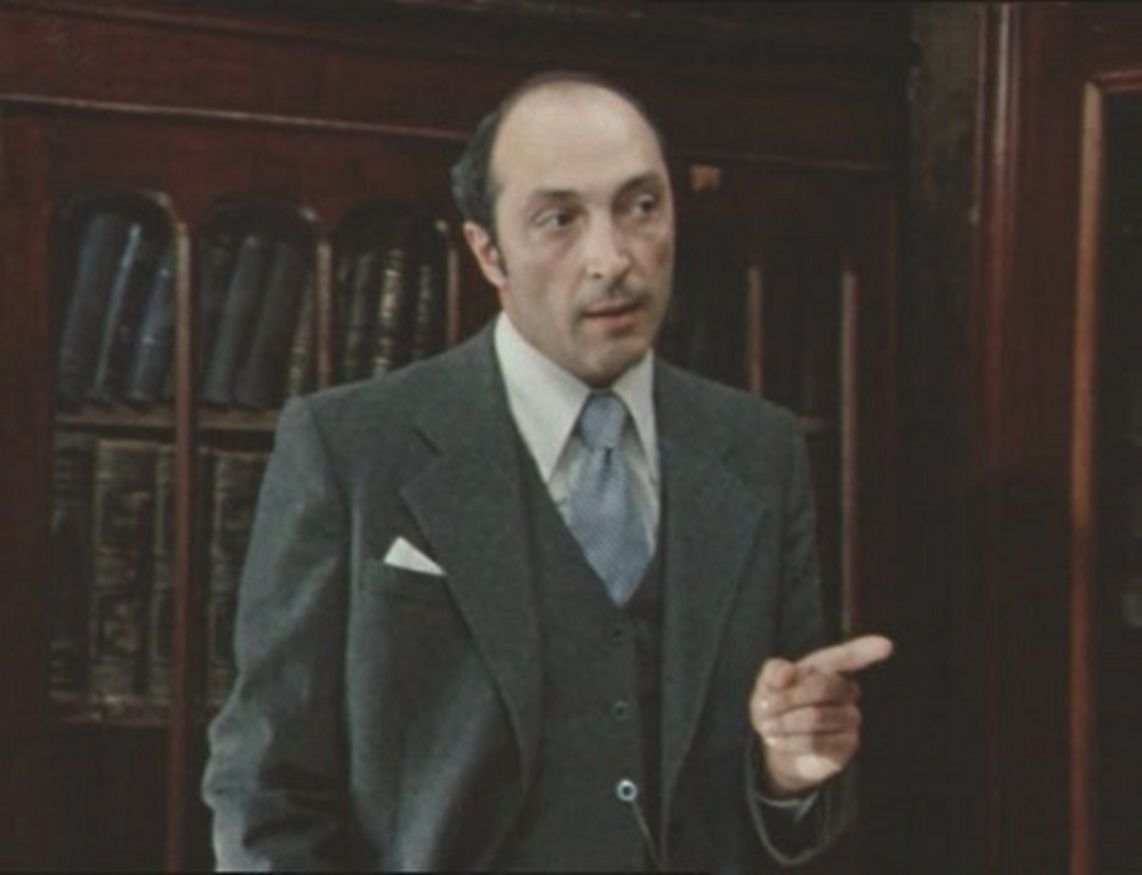
Проект «Безымянной звезды» был реализован исключительно на средства Свердловской киностудии — дополнительного финансирования не нашлось. О натурных съёмках речи почти не шло: все сцены провинциального городка, уютного сада и дома героев воссоздавались в павильонах «Ленфильма».
Оператору Георгию Рербергу пришлось проявить всё своё мастерство, чтобы зритель не почувствовал искусственности. Он с ювелирной точностью выставлял освещение, добиваясь ощущения настоящего солнечного света.
Тем не менее, несколько натурных эпизодов всё же удалось снять. Вокзал, куда прибывает загадочная незнакомка, снимали на станции Шувалово Октябрьской железной дороги. А живописную прибрежную дорогу, по которой едут Григ и Мона, нашли в Зеленогорске, на берегу Финского залива.

На роль учителя музыки и преданного друга Мирою — господина Удри — изначально был утверждён Зиновий Гердт. Его интеллигентная манера, мягкий юмор и глубокий взгляд идеально подходили образу. Однако незадолго до съёмок Гердт серьёзно заболел и не смог принять участие в проекте.
Его заменил Григорий Лямпе, который сумел внести в образ Удри добрую и тонкую иронию, сделав персонажа по-настоящему живым и тёплым.

Все астрономические детали в фильме — от телескопов до звёздных карт — были подлинными. Создатели картины стремились к максимальной достоверности. Игорю Костолевскому, исполнявшему роль учителя астрономии Марина Мирою, пришлось не просто вжиться в образ, но и буквально погрузиться в науку.
«Запомнить все термины, названия созвездий и небесных объектов оказалось не так просто», — признавался актёр. Чтобы выглядеть убедительно в кадре, он часами штудировал астрономические справочники и карты звёздного неба, разбирался в устройстве телескопов, осваивал лексику и движения преподавателя.
Эта кропотливая работа помогла ему органично передать образ — не просто романтика, но человека, по-настоящему влюблённого в небо.

Премьера картины состоялась в Московском Доме кино, где фильм был принят с интересом, но настоящий успех пришёл позже — в феврале 1979 года, когда «Безымянную звезду» впервые показали по советскому телевидению.
А затем — удивительный поворот судьбы: мелодрама попала на экраны в Румынии, на родине автора пьесы Михаила Себастьяна. Там она мгновенно завоевала популярность, обойдя по зрительской любви даже экранизацию 1965 года с Мариной Влади.
Румынская публика была покорена нежной лирикой, а Игорь Костолевский в роли скромного астронома стал настоящим кумиром — как среди советских зрителей, так и среди румынских поклонниц.