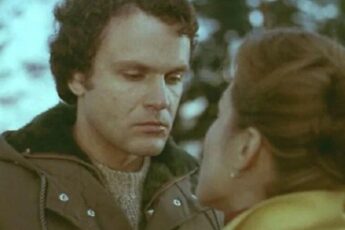Я вспоминаю её фото — та самая жизнерадостная Женька из «Тимура и его команды»: короткая стрижка, дерзкий взгляд, чистая радость во взгляде. И знаете, это тот случай, когда улыбка на экране не говорит вообще ничего о том, что творилось в душе и в жизни этого ребёнка.

Катя Деревщикова родилась в Москве в 1929 году, в семье утончённых и образованных людей. Её отец — дипломат, учёный-востоковед… И почти штампованная трагедия для интеллигенции того времени: 1934-й, арест, «десяточка» в лагере и смерть от болезни, которая так и не была вылечена за колючей проволокой. Это не кино — это реальность маленькой Кати.
Её мама была женщиной неглупой и знала: в этой стране ты либо маскируешься, либо гибнешь. Смена фамилии, спешный второй брак, справки, знакомства с женой Дзержинского — всё ради того, чтобы дочка не носила на лбу клеймо «дочь врага народа».
Но нет, государство не забывало: на всякий случай дедушка запрещал Кате носить пионерский галстук — вдруг кто узнает? Дети смеялись, спрашивали: «Почему без галстука?», а она молчала и снимала этот символ советской чистоты после каждой школьной линейки.

Ирония судьбы в том, что именно эту девочку — с «грязным» досье семьи — выберет кино на роль самой примерной пионерки страны. В 12 лет после «Тимура и его команды» она становится звездой. Письма со всего Союза, поклонники в школьной форме под окнами и даже милиционеры, сопровождающие её домой из-за ажиотажа. Звучит как сказка? Почти так и было — только на обломках недосказанной правды.
Казалось бы, карьера на взлёте. Но что в душе у подростка, который никогда не мог просто погулять после школы или пригласить домой друзей — потому что дома в шкафу пряталось прошлое, в котором сидел её мёртвый отец?
Пока сверстники дружно вступали в комсомол, Катя демонстративно приходила на занятия с укороченной юбкой и жирным слоем туши на ресницах. Это не бунт — это диагноз. Школу она бросила с лёгкостью и вызовом, и пошла вразнос: ночёвки на скамейках, разгульные компании, ночи без контроля.
И всё могло бы окончательно пойти в пропасть, если бы однажды на улице на неё не натолкнулся худрук Студии киноактёра. Он просто задал простой вопрос:
— А что ты собираешься делать дальше?
И вот эта «гайдаровская Женька», потерявшаяся в жизни, получает записку — прямая дорога во ВГИК к самой Тамаре Макаровой. Но даже тут Катя всё делает по-своему: приходит в институт не сразу, а ближе к ноябрю, чем повергла Макарову в лёгкий шок и насмешку. Но её взяли — с испытательным сроком, конечно.
Это был золотой курс: Инна Макарова, Клара Лучко, Бондарчук… Все будущие легенды. Катя среди них выглядела как уличный котёнок: своенравная, острая, но — её замечали. Её нельзя было не заметить.
И тут первый поворот: судьба подкидывает ей «Каменный цветок». И вдруг — рядом с ней не только камера, но и её педагог, сама Макарова, в образе Хозяйки Медной горы. И начинается холодная война между ними прямо на площадке.
Снимать фильм было сложно — атмосфера на площадке накалялась не только потому, что снимали сказку, но потому что в воздухе витала почти женская зависть, смешанная с ревностью. Макарова, опытная, властная, будто бы не могла стерпеть тёплого отношения режиссёра к этой юной актрисе. Она просто игнорировала Катю. Педагог и ученик — два параллельных мира, между которыми не было моста.
В финале — удар под дых: фамилия Деревщиковой не попадает в список на Сталинскую премию, хотя фильм получил признание, а другие актёры — награды. И да, это было сделано специально.
Тут же — ещё один поворот судьбы: отчисление из ВГИКа за прогулы и «левые» съёмки. И Катя снова на грани. Но рядом оказался Михаил Ромм, который её пожалел и взял на свой курс. Спас. Но отношения с Макаровой — всё, финиш.

После «Каменного цветка» перед ней, казалось, открывались двери всего советского кино. Но Катя — та самая упрямая девочка из прошлого — не спешила в них входить. Ей предлагали роли, присылали сценарии, уговаривали… А она отказывалась.
Парадокс в том, что её снова спас случай. Марк Бернес — да-да, сам Бернес — аккуратно подтолкнул её к новой возможности:
— Есть мой приятель в Киеве, режиссёр Земгано. Ему нужна актриса твоего типа. Съезди, присмотрись.
Катю в Москве уже ничего не держало — и она действительно рванула в Киев. И снова судьба сыграла по-своему: не просто утвердили на роль — сам Земгано влюбился в юную актрису. Разница в возрасте? Почти 30 лет — ему было 50. Но какая разница, когда он — режиссёр, директор театра, уважаемый человек и просто человек, способный оградить её от всех забот?
И тут у Кати началась жизнь, которую в СССР считали почти буржуазной: большая квартира, личный водитель, домработницы, няня для сына. Театр имени Леси Украинки значился в её трудовой книжке, но театр её практически не видел. Сниматься в местном кино она отказывалась, ссылаясь на слабые сценарии — да и зачем? Её жизнь и так была «сказочной».
И вот здесь я начинаю ловить себя на мысли: она ведь могла так и остаться «первой пионеркой СССР», затерявшейся в уютной квартире Киева. Но судьба и тут решила встряхнуть её покрепче. Муж начал пить — много и серьёзно. Через десять лет она подала на развод, собрала вещи, взяла сына — и уехала в Москву.
А в Москве её никто не ждал. Знаете это ощущение, когда возвращаешься туда, где тебя уже не считают «своим»? Её возраст — 35 лет — для театра того времени означал «почти пенсионерка», особенно если за спиной нет больших ролей за последние годы.
Она пробовала прорваться в Театр имени Пушкина — отказ. Театр сатиры — отказ.
В итоге — гастроли по совсем «непрестижным» адресам: дома престарелых, больницы, библиотеки, интернаты. Там платили копейки, но хоть какая-то работа. И да, в этой же нищей актёрской обойме оказался тогда Олег Борисов — позже он станет «великим», а тогда они оба были безработными и почти забытыми.
Но настоящая удача ждала её не там, где она её искала. Сергей Образцов пригласил её в Театр кукол. И — вот оно: полное принятие, благодарная публика, поездки за границу (а это тогда было практически «паспорт в другую жизнь»), искреннее уважение коллег. Екатерина Александровна обошла с этим театром почти весь мир. Её любили — пусть и в образе кукольной актрисы.
Но знаете, какая ирония? Эта «железная леди», как её станут называть позже, — главная ирония всей её судьбы.
Личная жизнь тоже преподнесла ей шанс на «позднее счастье»: она встретила Петра Щчесьневского — польского музыканта, на 12 лет моложе. Он стал её большой любовью и поддержкой. С ним она пережила и самую страшную трагедию — смерть единственного сына.

Фёдор умер от гепатита в 35 лет. И давайте будем честны: частично в этом была и её вина. Она была занятой матерью — гастроли, перелёты, аплодисменты… А сын рос почти без неё. Его жизнь пошла по наклонной, когда уже и спасать было поздно.
И вот представьте эту сцену: элегантная женщина, идеально одетая, с сигаретой в наманикюренных пальцах и с мундштуком, пытается воспитывать взрослого, зависимого сына, которого фактически не воспитывала в детстве.
И да, после смерти сына она сломалась — но внешне оставалась той самой «железной леди». Её новый муж умер вскоре после сына — в начале 80-х. И вот она осталась совсем одна.
77 лет — в этом возрасте её не стало в 2006 году. Последняя прима Театра кукол. Женщина, чья жизнь была одновременно сказкой и кошмаром. Женщина, у которой отняли детство, а потом она сама отняла детство у собственного ребёнка — не со зла, а просто потому, что жизнь такая…
И вот она — женщина, которая начинала как символ счастливого детства страны Советов, заканчивает свою жизнь в горьком одиночестве.

Её история — это не просто биография актрисы, это автопортрет целого поколения. Дети тех лет знали цену молчанию: галстук можно надеть и снять, но шрам на душе не ототрёшь.
Когда-то толпы детей поджидали её у подъезда, мечтая дотронуться до этой девочки-иконы. Когда-то письма в её адрес не успевали сортировать на почте. А потом — пустая квартира в Москве и длинные дни после смерти мужа и сына.
Она так и не вернулась в кино по-настоящему. Её роли остались в старых хрониках — Женька, весёлая девочка с копной непослушных волос и чистым, ещё не разбитым взглядом. А вот за кадром — разочарования, холодные войны с педагогами, предательство коллег и своя собственная отчуждённость.
С годами она действительно превратилась в «железную леди». Властная, нетерпимая к чужому мнению, она всё больше отстранялась от людей. Те, кто пересекался с ней в последние годы, говорили: эта женщина всегда была идеально собрана — безупречный маникюр, утончённая сигарета в мундштуке, костюмчик с иголочки — и ледяной взгляд.
Но ледяной только снаружи. Внутри всё было иначе: боль, вина перед сыном, одиночество и полное отсутствие иллюзий. Она знала, сколько стоит каждая улыбка на экране, сколько стоит преданная дружба, и как быстро уходят овации.
И вот что парадоксально: женщина, чьё детство фактически разрушило государство, так и не смогла построить полноценную семью. Покой, которого она искала — в богатом браке, в уюте дома, в успехе на сцене — всё это каждый раз оказывалось не тем.
Екатерина Деревщикова умерла тихо — без шума, без сенсаций, без очередей на прощание.
И я думаю: это же надо — прожить такую жизнь и в итоге уйти почти незаметно. Но разве не об этом был её путь? Заметной на экране, но незамеченной в жизни.